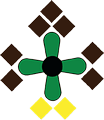Воспоминания архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия о годах проведённых в Ленинградской Духовной Академии
Жизнь каждого человека состоит из нескольких этапов, каждый из которых оказывает своё неповторимое влияние на формирование личности.
Конечно, особые, колоссальные изменения происходят в детстве, когда в человека закладываются психологические основы его дальнейшего существования.
Но не менее важным периодом является обучение в высшем учебном заведении. Здесь происходит знакомство с “настоящей”, не “школьной” наукой; в alma mater завязывается прочная дружба с единомышленниками, открываются жизненные перспективы. Именно поэтому память о студенческих годах никогда не стирается, а сопровождает человека весь его земной путь.
Однако воспоминания о студенческих годах является достоянием не только личности: из них также складывается историческая картина самого учебного заведения, которую важно не только сохранять, но и передавать последующим поколениям. Только благодаря тому, что этот процесс успешно осуществлялся всё время существования Академии, в этом году Санкт-Петербургские Духовные школы празднуют двойной юбилей: 300 лет с момента своего основания и 75 лет со дня возрождения.
Надеемся, что воспоминания архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия о проведённых в Ленинградской Духовной Академии годах дополнят фонд исторической памяти Духовных школ и помогут последующим поколениям студентов иметь более ясное представление о советском и постсоветском периоде жизни своей alma mater.
Юность. Поиск Бога в условиях атеистического государства
«Я родился в 1952 году в Минске. С одной стороны, страна только что выиграла войну с фашистами. С другой — терпела страшные поражения в войне духовной. Государство открыто боролось с Церковью, храмы закрывались, над священниками господствовали уполномоченные. Доходило до того, что даже сами церковные работники из-за страха могли не пускать людей в храм.
Моя семья была такой же, как и Отечество — полностью атеистической. Мама работала школьной учительницей и церковную жизнь не вела. Упрекнуть её в этом я не имею никакого права: за поход в храм могли уволить с работы. Сегодня это не проблема: уволили — устройся в другое место. Но религиозные люди в СССР были как каста неприкасаемых в Индии — их не брали на нормальную работу, боялись здороваться, не принимали в обществе. Для моей мамы это был вопрос выживания двух её детей.
Все изменилось в старших классах. Я только что описал условия жизни в атеистической стране. По сути, это духовная пустыня. Как и откуда в этом вакууме у меня появилось понятие о Боге — для меня самого загадка. Тем не менее именно посреди этой пустыни, когда церковным возрождением еще и не пахло, я стал призывать Господа. По-детски, наивно, просил открыться мне, если Он есть.
Примечательно, что моим первым катехизатором стал не священник, а церковный сторож Александро-Невской церкви. Духовенство боялось общаться с молодежью — могли привлечь за «пропаганду и распространение». Батюшка, который меня причащал, говорил: “Если вдруг спросят, отвечай, что уже окончил школу и работаешь разнорабочим на почте”. А вот сторож Александр ничего не боялся. С ним я говорил о вере, с ним молился. Без этого человека я, возможно, никогда бы не стал священником.
Огромную роль в моем воцерковлении сыграл Псково-Печерский монастырь. Кстати, именно там я познакомился с ребятами из Петербургской семинарии, которые приезжали в обитель на каникулы. Они-то и рассказали мне про духовные школы и звали поступать.
Долго уговаривать меня не пришлось — я мечтал стать семинаристом. Только вот для этого нужно было провернуть целую комбинацию: я поступил в Белорусский институт механизации, но не чтобы его окончить — людям с высшим образованием власть создавала колосальные перпятствия для поступления в семинарию. Поэтому я специально перевелся на заочное, дождался пока меня заберут в армию, отслужил и уже тогда со спокойной совестью приехал в Северную столицу.
Маме, конечно ничего не сказал. Точнее сказал, но что, якобы, поступил в Ленинградский государственный институт культуры им. Крупской. О том, что я учился в Ленинграде, но совсем не в институте, я ей сообщил уже когда заканчивал Академию и был в сане диакона».
Вступительные испытания в семинарию. Академия в лицах
«Больше всего я боялся экзамена по пению. Когда меня пригласили что-нибудь спеть, мой выбор пал на стих прокимна Великой Пятницы: «Боже, Боже Мой, вонми Ми, вскую оставил Мя еси». Что ж, как видите, мой вопль был услышан.
На вступительных испытаниях присутствовали митрополит Никодим (Ротов) и ректор Академии епископ Кирилл — нынешний Патриарх. Владыка Кирилл интересовался тем, почему я бросил светское учебное заведение. Я, признаюсь, немного растерялся. И тогда за меня вступился митрополит Никодим: “Саша, не переживай, меня с медицинского выгнали, а уже видишь — митрополит”.
Это было мое первое знакомство с владыкой Никодимом. Чем дальше — тем больше я убеждался в его заботе о Церкви. Да и все мы знаем, как он боролся буквально за каждый храм и часовню. Что еще важнее, огромное внимание он проявлял к студентам и священникам: мог принять, выслушать и заступиться за всех, кто в этом нуждался. Владыка Никодим был отцом и авторитетом для всех нас. Учащиеся его очень уважали и чувствовали покровительство.
Епископ Кирилл, несмотря на молодой возраст, был уже ректором Академии. Он поражал нас своими эрудицией и знаниями. Его проповедь была живым словом, а личный духовный опыт вдохновлял будущих служителей Церкви. При нём была сформирована новая традиция: выпускной класс ехал в паломническую поездку. Наш курс посещал Киев. Владыка Кирилл был с нами. Такая непосредственность и открытость очень привлекала молодых людей. Несмотря на высокую должность, он был доступен для каждого».
Как филателия и атеистические писатели помогали изучать Библию. Жизнь в Академии
«В СССР религиозные знания приходилось собирать буквально по крупицам и, порой, в самых неожиданных местах. Ещё до семинарии я увлекался филателией. Часто на марках можно было встретить репродукции картин с библейским сюжетом. Это подталкивало копать глубже: идти в библиотеку, рыться в энциклопедиях и пытаться понять, что происходит на картинке. В то время также были популярны “Библейские сказания” Зенона Косидовского и “Раскопки в библейских странах” Иосифа Крывелева. Вот вроде бы книги созданы, чтобы вытравить из людей религию. Но даже из них можно было извлечь пользу — они давали подробный пересказ текста Ветхого и Нового Завета и археологические исследования, которые — по замечаниям автора — подтверждали описываемые в Библии события.
Эти юношеские увлечения укрепились в первый год моего обучения в семинарии. Одним из моих любимых предметов стала библейская история, которую преподавал Игорь Цезаревич Миронович.
А вот пение… Со вступительных экзаменов мало что поменялось — каждая лекция была как “смертельный номер под куполом”. От двойки меня спасло знание текстов. Дело в том, что в детстве, из-за страха разоблачения, часто приходилось упражняться в ночной молитве. А чтобы делать это успешно в темноте, приходилось учить молитвы каноника. Помню, отвечая домашнее задание, я быстро протараторил весь текст, делая вид, что пытаюсь спеть. Тогда учитель обратился к классу: “Вы все украинцы — музыкальные, а у него нет способностей. Но посмотрите на парня! Вы ни одного слова, ни одного тропаря не можете спеть наизусть, а он знает всё. Я ему пятёрку поставлю”. Так я и сдал этот предмет.
Справиться с распорядком и строгими правилами семинарии мне помог опыт жизни в монастыре и службы в армии. Но все равно некоторые правила возмущали: я никак не мог понять, почему в Церкви происходит нарушение свободы — дежурные помощники заставляют семинаристов идти на службу. Тут сразу два вопроса: почему одни заставляют братьев идти на службу чуть ли не силой и почему вторые не хотят идти на богослужение — то, ради чего я в армии бегал в самоволку?
Во внеучебное время мы занимались спортом: делали зарядку в саду рядом с Академией, иногда ходили на лыжах, плавали в бассейне. Что особенно радовало — семинария не была учебным заведением закрытого типа. Мы не замыкались в своем мире, постоянно посещали музеи, театры, выставки. Помню выставку Ильи Глазунова — его первые картины произвели на нас глубокое впечатление.
Во время учёбы у нас также было интересное хобби: охота за духовной литературой. Мы кружились около иностранцев, иногда они привозили нам книги. В академической библиотеке была литература, но нам хотелось иметь свою. В те времена было трудно купить даже Новый Завет, так как его выпускали маленьким тиражом. Что уж говорить о проповедях, богословских и нравоучительных сочинениях — это была редкость. Некоторые ребята фотографировали страницы книг, чтобы потом использовать это дома и на приходах».
Жизнь после Академии
«С книжным дефицитом связана еще одна история из моей жизни, правда уже после учебы. После Академии я служил диаконом в Карелии. Когда освободилось место в храме святого Александра Невского в Минске, мне позвонили и предложили приехать — это был октябрь 1982 года. Я конечно обрадовался, а потом подумал, что это же мой родной храм, где все меня помнят, что нужно будет держать марку. А у меня из пособий для проповедей — толкования свт. Иоанна Златоуста на Евангелие от Марка. Да и то только половина, первая часть. Как же я тогда волновался! А когда приехал в Минск, нам в храм кто-то пожертвовал вторую книгу свт. Иоанна. В общем, я был спасен.
Хотя надо сказать, что, завершая учёбу в Академии, мы все мечтали остаться в Петербурге, тогда мы буквально жили им. Помню, когда у нас в Минске открыли метро, я боялся в него заходить, чтобы не расплакаться от воспоминаний. Я несколько раз приезжал в Академию после обучения — в гости. Но постепенно мы повзрослели, стали серьёзнее, былая страсть к городу утихла. Да и уже не в том возрасте, чтобы часто путешествовать. Последний раз я был в Петербурге лет семь назад, но это была встреча, посвящённая одной памятной дате, и так сложилось, что времени для посещения родной Академии не было. Но я всё равно слежу за жизнью Духовной школы. Произошли впечатляющие перемены. Главное, чтобы это не коснулось духа учебного заведения. Петербургская Академия всегда отличалась свободомыслием — в самом хорошем смысле. Этим семинарским духом мы стараемся жить и сейчас, хоть голова уже лысая, а борода седая. Мне запомнились открытые человеческие и церковные взаимоотношения. Я никогда не был вхож в коллективы, ни в школе, ни в армии из-за своей религиозности. Но в Петербурге чувствовалась, что мы одна семья. Это сохранилось в моей душе навсегда.
Мне кажется, что в Петербурге сложилась особая церковная среда. Даже когда я участвовал в разных мероприятиях, например, в Печорах, сразу было видно, где московский студент, а где питерский. Был один случай: прошло лет семь после окончания обучения — я уже служил диаконом или священником в Минске — пошёл в магазин и увидел там парня старше меня, мы поздоровались, разговорились: “Ты в Питере учился?” — “Да”. Я знал ответ, почти сразу как его увидел. У каждого из нас особая “печать” этого учебного заведения».
Наставление современным студентам
«Я бы хотел пожелать нынешним студентам не терять времени даром. Нужно запомнить, что жизнь — она здесь и сейчас. Накапливайте потенциал, получайте знания, впитывайте дух разумной свободы, то, что вы можете получить только в этих стенах, чтобы затем хранить в сердце и делиться с другими людьми».