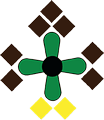«Милость Божия не знала физических границ»: Пасха в лагерях
В день отдания Пасхи мы хотим поделиться воспоминаниями людей, которые встречали Пасху в совершенно нечеловеческих условиях сталинских лагерей, не переставая радоваться Воскресению Христову.
Фото 1. Самодельная открытка из коллекции лагерных вещей Ирины Угримовой, собранных ею во время заключения в Минлаге. Источник: istpamyat.ru
«Дух был свободным, и дух пылал»
Нина Павлова писала в «Красной Пасхе»: «Когда протоиерея Василия (Евдокимова) спросили: «Батюшка, а страшно было в лагерях?». Он ответил: «Конечно, страх был, когда пробирались тайком на ночную литургию в лагере: вдруг поймают и набавят срок? А начнется литургия — и Небо отверсто! Господи, думаешь, пусть срок набавят, но лишь бы подольше не наступал рассвет. Иногда мне даже казалось, что мы, узники Христовы, были свободнее тех, кто на воле. Как объяснить? Дух был свободным, и дух пылал».
Такие стойкие духом люди укрепляли неверующих сокамерников. Евгения Гинзбург в своей книге воспоминаний о Колыме пишет, что простые воронежские женщины просили начальника разрешить им не работать в день Пасхи – ради праздника, обещая выполнить двойную норму в другой день. Но их, конечно, выгнали из барака прикладами:
«Придя на рабочее место в лесу, они аккуратно составили в кучу свои пилы и топоры, степенно расселись на всё ещё мёрзлые пни и стали петь молитвы. Тогда конвоиры приказали им разуться и встать босыми ногами в наледь, в холодную воду.
Женщины в бараке исправительно-трудового лагеря. Источник: s-t-o-l.com
Помню, как бесстрашно вступилась тогда за крестьянок старая большевичка Маша Мино.
– Что вы делаете, – кричала она на стрелков, и голос её срывался от гнева…
В ответ – угрозы и даже выстрелы в воздух. Не помню уж, сколько часов длилась эта пытка, для религиозниц – физическая, для нас – моральная. Они стояли босиком на льду и продолжали петь молитвы, а мы, побросав свои инструменты, метались от одного стрелка к другому, умоляя и уговаривая, рыдая и крича.
Интереснее всего, что ни одна из часами стоявших на льду воронежских не заболела. И норму уже на следующий день они выполнили на сто двадцать».
«Как только перешагнёшь и решишься на всё – тогда ничего не страшно!»
Кристус Петрус в книге «Узники коммунизма» приводит слова монахини «тети Маши», как ее называли в лагере: «Для нас лагерь – как монастырь, – говорила она, – только в монастыре мы имели послушание от игуменьи, а здесь имеем от Самого Бога. То, что Ему угодно, мы делаем, а что Ему противно, мы не можем делать, если бы даже НКВД нас и расстреляло. Приближается Святая Пасха, Светлое Христово Воскресение – разве мы сможем не воздать славу Воскресшему? Пусть наши выступления называют «поповской вылазкой» и чем угодно, но мы своё будем делать. Для этой цели мы и попали сюда».
И они действительно не боялись славить Христа: на лагерной площади, среди бараков. И даже когда рассвирепевшие НКВД-шники повели монахинь в изолятор, заломив им руки, они продолжали тихо петь стихиры Светлого дня.
Кристус Петрус пишет:
«Лагерники шумели и волновались. Некоторые смеялись над ними, другие удивлялись их бесстрашию и восхищались их пением, иные, снявши шапки, благоговейно провожали их одобрительными взорами. Иные урки сквернословили:
– У, фанатики, мракобесы, белогвардейцы!
– Святую крестьянскую Русь повёл на муки большевизм! – говорили другие.
– Христианство входило в мир через Голгофу и сонмы мучеников и выйдет оно из него таким же путём! – высказывались третьи.
Источник: pravmir.ru
Многие, наблюдавшие это величественное шествие, плакали и быстро уходили в бараки.
А они, дерзновенные, шли медленно и радостно к воротам изолятора, продолжая петь слова о всепрощении и любви, о пасхальном ликовании и открытых дверях рая.
Дорогою ценою пришлось им заплатить за это: две недели предварительного пребывания в изоляторе с избиением и издевательством над священником, а затем им было предъявлено новое обвинение – в организации контрреволюционной группировки и поповско-кулацкой агитации среди лагерников.
После их отпустили в лагерь, и тётя Маша снова явилась в бригаду «ручников», измученная и потемневшая от голода и лишений, но по-прежнему скромная, кроткая, улыбавшаяся сияющими глазами.
– Самая высокая и благородная смерть – это смерть за Христа, – говорила она, – и мы должны молить Его, чтобы Он сподобил нас принять её с достоинством и смирением.
– И вам не страшно, тётя Маша, так поступать? Ведь могут вас расстрелять? – задавали ей вопросы заключённые.
– Страшно, пока не переступили его – этот страх, а как только перешагнёшь и решишься на всё – тогда ничего не страшно!»
«Мы в церкви воспринимали её как прибежище, осаждённое врагами»
В 1923 году были ликвидированы все церкви Соловецкого монастыря, и Управлению лагерей перешло не только имущество монастыря, но и его насельники. Они могли уехать с острова под подписку, могли остаться в лагере как монашеская община.
В 1925 году начальник лагеря Эйхманс разрешил духовенству не только молиться в церкви, но и служить. Таким образом, ссыльные архиереи смогли возглавлять праздничные богослужения и совершать рукоположения. Эйхманс пояснял свою позицию уважением к твердости убеждений священников: «Попов и генералов всё равно не сагитируешь, а гнилую шпану и агитировать не стоит». Такой порядок был сохранен до 1928 года и был, по сути, уникален.
М. Никонов-Смородин в «Воспоминаниях соловецких узников» пишет:
«Последнее доступное для заключённых пасхальное богослужение совершалось в 1928 году. Поскольку до Пасхи владыку Илариона переместили на Филимоновскую тоню, пасхальное богослужение 1928 года в церкви прп. Онуфрия Великого возглавил архиепископ Пётр (Зверев). Ему сослужили двенадцать иерархов.
Запас риз в ризнице церкви был небольшой, и пришлось монахам несколько риз сшить из мешков. Незабываемая была служба. Трудно о ней и рассказать обычными людскими словами. В церкви небольшая кучка монахов, два-три заключённых в серых бушлатах. Крестный ход вокруг церкви без колокольного звона и соловецкое особое пение на древний образец вызывали у всех слёзы. Ещё бы, пятисотлетние традиции. И заметьте: иерархи отправляют службу так же – именно на этот старинный лад. Помните поговорку: «Со своим уставом в чужой монастырь не суйся». Это, оказывается, не пустые слова. И вот от этого особого лада соловецкая служба получается особенная, проникновенная. С клироса глазами пронзительными и невидящими одновременно озирал стоящих в храме иеромонах. Лицо его под надвинутым на брови клобуком – как на древних новгородских иконах: измождённое, вдохновлённое суровой верой. Он истово следил, чтобы чин службы правили по монастырскому уставу, и не разрешал регенту отклониться от пения по крюкам. Знаменитые столичные дьяконы не решались при нём петь молитвы на концертный лад…
Все мы в церкви воспринимали её как прибежище, осаждённое врагами. Они вот-вот ворвутся, как семь веков назад ворвались татары в Успенский собор во Владимире… Действительно, вокруг церкви стояло кольцо вооружённой охраны, и все же милость Божия не имела физических границ».
Пасха глазами атеиста
Лев Копелев в своей книге «Хранить вечно» тепло вспоминает, как он, атеист, стал свидетелем тайного празднования Пасхи 1946 года в Унженском исправительно-трудовом лагере:
«Койки сдвинуты к стенам. В углу тумбочка, застланная цветным домашним покрывалом. На ней икона и несколько самодельных свечей. Батюшка с жестяным крестом в облачении, составленном из чистых простынь, кадил душистой смолкой.
…В небольшой комнате полутемно, мерцают тоненькие свечки. Батюшка служит тихим, глуховатым, подрагивающим стариковским голосом. Несколько женщин в белых платочках запевают тоже негромко, но истово светлыми голосами. Хор подхватывает дружно, хотя все стараются, чтоб негромко. Больше всего женских голосов: в некоторых дрожат слезы.
Там, за стеной барака, в десятке шагов – колючая проволка, запретная зона, вышки, часовые в тулупах. Еще дальше – поселок, дома охраны, начальства, там те, кто «кормятся» лагерем, кто хоть как-то благополучен оттого, что здесь, за проволокой, столько злополучных. А вокруг лес, густой, непроглядный вековой лес, и далеко на западе Волга. И здесь, вблизи, и там, за Волгой, деревни, деревни, деревни – серые, голодные… Еще дальше Москва, рубиновые звезды на Кремлевских башнях, старый облупленный дом в Замоскворечье, узкая заставленная комната, в которой спят мои дочки. А за Москвой, к западу, развалины, пепелища и могилы, могилы…
Тихо, приглушенно и все же переливчато-радостно поют женщины в белых платочках, мы вторим из темноты… Мы здесь едва знаем или вовсе не знаем друг друга. Иных и не узнать в сумраке. Наверное, не только мы с Сергеем неверующие. Но поем все согласно:
Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ
И сущим во гробех
Живот даровав…»
По материалам сайта