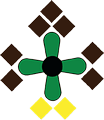От Гродно до Тулы: судьба белорусского священника, как отражение мировой истории

Предлагаем вниманию наших читателей статью М.В. Шуманской - главного библиографа отдела краеведения Тульской областной универсальной научной библиотеки – «Простая жизнь. От Гродно до Тулы: судьба белорусского священника как отражение мировой истории (к биографии иерея Антония Котовича (1848-1917))».
Статья посвященна белорусскому священнику-беженцу, окончившему свои дни в Успенско-Иверском женском монастыре (село Борщевое Веневского уезда Тульской губернии), куда он был назначен служить священником после переезда в пределы Тульской губернии и где он остался жить на покое.
Простая жизнь. От Гродно до Тулы: судьба белорусского священника, как отражение мировой истории
(к биографии иерея Антония Котовича (1848-1917)
«Священник – это распятый человек... Человек, который отрекся и отрекается, и каждый час должен заново отречься от себя, от каких бы то ни было прав… Он – образ Христов, он – икона, он – Христова забота, он – Христова любовь; он – Христово тело, которое может быть распято; он – Христова кровь, которая может быть излита»
Антоний, митрополит Сурожский.
Эти слова в полной мере можно отнести к личности священника, которому посвящен мой доклад.
Начиналась эта история с поездки в с. Борщевое Веневского района, на престольный праздник, где вновь действует, восстановленный после многих лет запустения, храм в честь Иверской иконы Божией Матери.
До революции 1917 г. в с. Борщевом Веневского уезда действовал Успенско-Иверский общежительный женский монастырь (учрежден в 1898 г.). В Борщевом существовали два храма: небольшая Крестовоздвиженская церковь и двухэтажное здание Успенско-Иверского храма. До наших дней сохранился только этот храм (в 2013 г. он отметил свое 100-летие). После революции монастырь был закрыт, монахини и послушницы выселены или репрессированы, а постройки и храмы монастыря варварски разрушались. В 2000 г. храм начали восстанавливать, в 2004 г. он был вновь освящен и в нем снова стали проходить богослужения.
Еще в 1990-е гг. у алтарной стены храма группой верующих из Тулы, во главе с Владимиром Николаевичем Сухопаровым, подвижником, всю свою жизнь бережно и с любовью занимающемся изучением православной истории края, был установлен Поклонный Крест. Как мы теперь это можем видеть – Крест тогда был установлен недалеко от места захоронения одного из последних священников монастыря, упокоившегося здесь в самом начале 1917 г.
И вот, буквально накануне поездки в с. Борщевое я просматривала по служебной необходимости подшивку «Тульских епархиальных ведомостей» за 1917 г. и наткнулась на публикацию «Над свежей могилой пастыря. (Из Успенско-Иверского монастыря)»[1]. Меня поразило такое «совпадение». В заметке тоже шла речь о Борщевом и это заставило меня внимательно прочитать статью.
Вот, что там было написано:
«Тяжёлые, невоносимо тяжёлые страдания душевные выпали на долю престарелого пастыря о. Антония Котовича, беженца Гродненской епархии, прах которого ещё так недавно схоронили в св. обители Успенско-Иверского монастыря.
Нужно было, спсая жизнь свою от немецких полчищ, как не раз рассказывал о. Антоний, почти что в буквальном смысле бросаться в бегство, побросавши своих прихожан в безвестности, для которых отдал всю свою жизнь, прослуживши до 40 лет среди них, свою дорогую святыню – приходской храм, и всё своё, годами нажиток достояние.
Крепко в разлуке тосковал о. Антоний, искренно любя своих прихожан, чисто по-отечески, как высокоидейно любил, вообще всё своё дело пастырского служения Святой Церкви; когда, бывало, вспоминал, слезами заволакивался его старческий взор, и только в задушевной внутренней молитве, понемному примиряясь, на время как бы заглушался и ослабевал этот стон наболевшей души, обида за такое наглое, дерзкое попрание немцами высших начал правды и справедливости.
Много и часто писали к о. Антонию за это время его добрые прихожане, также, по-видимому, тосковавшие в разлуке со своим любимым батюшкой. Как оживал тогда духом о. Антоний, и прояснялся уже потускнелый и настрадавшийся его старческий взор.
Но это были только минуты, хотя такие дорогие для него, незабываемые минуты; и читались тогда-перечитывались по многу раз безыскусные, часто малограмотные письма, так как в них был один общий крик наболевшей души честного рабочего люда, немного приниженного, правда, в борьбе с судьбой, но всегда гордого и благородного сына своей родины, землероба-белоруса.
Много сделал о. Антоний для своего прихода.
Его старанием построен новый величественный приходской храм и другой – там же, кладбищенский. Много забот было по устроению церковной школы, в которой был заведующим и законоучителем; по устроению общенародного пения в храме; ещё же больше по насаждению нравственных начал в среде своих духовных чад, прихожан. И уже навсегда останутся незабвенными его особая заботливость и труды по устроению сирот в приходе; ибо благодаря ему и его доброй супруге, много сирот нашли у него приют, получили прекрасное воспитание, образование в учебных заведених и с честью и славой труждаются для общества.
Был любим о. Антоний своим окружным духовенством, которое за дивный, смиренный нрав и доброе житие избрало его, давно уже, своим духовником.
Не судил ему Господь возвратиться в свой любимый северо-западный край, в свою обожаемую, родную Белоруссию.
Умер о. Антоний почти что скоропостижно, от разрыва сердца, на 69 году жизни.
Уже отправил, как пишет нам лювеобильная старица матушка-игуменья Успенско-Иверского монастыря, свою седмичную чреду в обители, передал служение в храме другому монастырскому священнику о. Александру; и, как сам, прощаясь, говорил ей, хотел было отдохнуть и успокоиться на внеочередной седмице, но… это была последняя, по воле судьбы, чреда земная для него на жизненном пути, и успокоился тогда от своих трудов праведных праведной жизни старец-иерей навеки.
Была суббота, к вечеру; уже монастырский колокол призывал сестер обители в храм, на молитву, ко всенощной.
Не в силах был идти со всеми о. Антоний; взял свой служебник, с которым не расставался всю жизнь, со дня просвещения; присел в кресло пред образами и, проливая слёзы, умиленно молился, видмо, снова и снова вспоминая свой любимый храм родной… Не прошло затем получаса, как из соседней комнаты его супруга услышала предсмертные судороги, начавшиеся с ним от разрыва сердца… И его не стало, всё было кончено.
Святая обитель приютила на время короткое, месяца на четыре, о. Антония, на чужбине, пригласивши к себе, на любимые для него труды – в монастырские священники; успела полюбить за это короткое время за особую молитвенную настроенность, ревностное служение в храме. Когда же Господь судил ему скончать здесь свои земные дни, любовно приняла прах его уже навсегда, торжественно схоронивши, по отправлении положенных по уставу церковных служб и молений церковных, при новосозданном своём величественном храме, у алтарной стены, отдавши эту великую честь, как своему молитвеннику-духовнику пастырю, за его страдания и любовь к людям.
Сейчас под руками у нас два небольших документа: письмо от 15 января сего года от матушки игуменьи Успенско-Иверского монастыря, и, затем, – удостоверение, данное о. Антонию от о. благочинного церквей г. Тулы, от 11 сентября 1916 года. Эти документы интересны тем, что в одном даётся официальный (по службе) отзыв; в другом, как частном письме, кстати, под свежими впечатлениями писанном на другой день смерти, имеем уже как бы непосредственный отзвук, почти эхо, донесшееся до кафедрального города от стен святой обители, с сохранением ещё большей правдивости, откровенности, свойственным вооще частной переписке.
В частности, в удостоверении о. благочинного свидетельствуется, что «священник Гродненской епархии, о. Антоний Котович с 5-го марта по 1-е июня 1916 года, проживая в г. Туле, вблизи Крестовоздвиженской церкви, постоянно в праздничные и воскресные дни, часто и в будничные, совершал истово и с особым отменным усердием все богослужения церковные; нередко исполял требы приходские в местном военном лазарете, служил всенощные боослужения и молебные пения, вёл беседы с больными и ранеными воинами».
«С 1-го же июня 1916 года по 29-е июля того же 1916 года был заместителем настоятеля Серафимовской города Тулы церкви, по указу духовной консистории; с 20-го же июля по 11-е сентября почти постоянно участвовал в богослужениях церковных на Покровском подворье и Всехсвятской и Трёхсвятительской церкви. И везде пастырское служение о. Антония отменно усердное было и заслуживало от населения г. Тулы особого одобрения»…
Затем, в письме матушки игуменьи читаем следующее:
«С глубокой скорбью спешу сообщить вам, что наш всеми почитаемый о. Антоний вчера вечером неожиданно скончался.
Прожил он у нас четыре месяца и три дня, но за этот короткий срок сумел привлечь к себе всех нас, монашествующих, своим ласковым обхождением, а главное молитвою. Как он был усерден к службе, описать невозможно; и вот мы так скоро лишились своего доброго молитвенника; все скорбим, сражённые его внезапной кончиной; и сейчас, на панихиде, букально все рыдали искренними, непритворными слезами.
Ещё вчера утром служил он обедню, вознося бескровные жертвы «о всех и за вся», а вечером его уже не стало. Умер от разрыва сердца. Но, видно, он готов предстать на суд Божий, и Господь послал ему кончину безболезненную. Не вынесло его старческое сердце всей тяжести испытания. За последнее время неделями две стал плохо себя чувствовать, жаловался на боль в ноге и сильную одышку; но всё-таки не оставлял службы; и прошлую неделю служил ежедневно, и вчера, выходя из храма, сказал: «Слава Богу, свою седмицу отправил, теперь отдохну»…Вот и успокоился навеки.
Душевно жаль бедную осиротевшую его матушку – Софью Егоровну. Тяжело ей лишиться мужа на чужой стороне.
Предполагала о. Антония представить к награде, но он категорически отклонил это, сказавши: «Погодите до весны, тогда видно будет, а сейчас не нужно; и притом я стал плохо себя чувствовать»…
С его смертью опять бедная наша обитель осталась без ежедневного богослужения, а тем более подходит Великий пост. А как было хорошо эти 4 месяца, обитель прославилась каждодневной службой, стали приходить дальние богомольцы.
Оставил нас о. Антоний, но память о нём никогда не изгладится в сердцах наших, и всегда будем молиться об упокоении души его в Царствии Небесном. Здоровье моё всё слабеет, и сегодня ночью так и думала, что последую за о. Антонием; очень уж потрясены все внезапной кончиной.
С истинным глубоким уважением остаюсь смиренная настоятельница Успенско-Иверского монастыря игумеия Флавиана».
Долго будут вспоминать о нём в обители; и уже навсегда не забудут, как своего доброго батюшку, его добрые прихожане, которые от мала до велика, все любили о. Антония, как и он всегда носил в душе своей любовь в ним и тосковал, крепко тосковал в разлуке, всей душой.
Можно было не согласиться иногда в мнениях с ним, но его нельзя было не уважать за простоту, благородный идеализм в жизни, верность лучшим культурным началам служения человечеству, ярым борцом за которые о. Антоний был во все дни своей жизни, как и убеждённым всегда учителем, проповедником Евангелия Христа».
Попытки найти в тульских архивохранилищах еще какие-нибудь подробности жизни упоминаемого в публикации пастыря – иерея Антония Котовича, к сожалению, ни к чему не привели. Обращение в Гродненскую епархию с запросом о нем также не дало результатов. Оставив все на волю Божию, я пока решила приостановить поиски, надеясь, что со временем все же что-то будет найдено. И вот, спустя почти 2 года, ко мне на электронную почту пришел запрос одного из наших краеведов с вопросом – известно ли что-нибудь о белорусском священнике А. Котовиче, похороненном в Веневском уезде. А к краеведу обратился один из наших тульских священников на которого, через Интернет, вышел краевед из Беларуси с таким же запросом. Вот так, Божиим промыслом, круг замкнулся на мне. Я связалась напрямую с белорусским краеведом – Александром Ильиным, историком, доцентом Полесского государственного университета (г. Пинск, Беларусь) и он сообщил мне, что род Котовичей – это старинный разветвленный род, многие представители которого были священнослужителями и сейчас ведется работа над большой книгой, рассказывающей о роде Котовиче. В ответ на мой запрос Александр любезно предоставил мне небольшой фрагмент из своей работы, где рассказывается об отце Антонии Котовиче, а также прислал его фотографию. Теперь мы можем воочию представить этого достойного пастыря.
Вот, что нам теперь известно об о. Антонии: «Младший сын волчинского священника Василия Онуфриевича Котовича (1815–1855) – Антоний Васильевич Котович родился 17 января (ст. ст.) 1848 г. в местечке Волчин Брестского уезда (теперь Каменецкий р-н Брестской обл.). После смерти отца жил в Черевачицах в доме своего дяди, протоиерея Антония Котовича. Очевидно, что Антоний учился в Кобринском духовном училище. В 1869 г. он окончил (вместе с двоюродным братом Василием Котовичем) Литовскую Духовную Семинарию. С 15 июля 1869 г. работал надзирателем в Виленском Духовном Училище, с 1 апреля 1870 г. – экономом, с 1 декабря – письмоводителем училищного правления, а с 24 мая 1871 г. – надзирателем в Жировичском Духовном Училище. 5 марта 1872 г. в Гродненском Софиевском соборе епископом Брестским Евгением (Шерешиловым) Антоний Котович был рукоположен в священники Александро-Невской церкви местечка Яловка Волковыского уезда, позднее был там помощником благочинного. Проявлял там большую активность: руководил церковно-приходской школой. В местечке было много так называемых «упорствующих», то есть бывших униатов, которые не хотели посещать православные храмы. Антоний Котович перевёл в православие из католичества 10 мужчин и 4 женщины, а также из лютеранства – одну женщину.
8 марта 1884 г. отца Антония переместили в Омеленецкую церковь, Высоко-Литовского благочиния, Брестского уезда (теперь Каменецкий район), где тот прослужил 31 год. Деревянная Кресто-Воздвиженская церковь была построена ранее 1713 года. В ней хранились частицы святых мощей Саввы и Доната. В 1905 г. церковь была перенесена на новое место и освящена.
В 1903 г. при церкви создали свечное братство. За год собрали свечных взносов 162 рубля. Каждый братчик ежегодно вносил в братскую кассу по одному рублю для покупки жёлтого воска на изготовление братских свечей по числу братчиков. Остаток после изготовления братских свечей расходовался по мере надобности на украшение и ремонт храма.
В 1902 г. в связи с 25-летием трудов на ниве народного образования Антоний Котович был награждён орденом св. Анны 3-й степени. Действительно, при содействии священника в 7 верстах в деревне Чвирки 22 октября 1886 г. была открыта школа грамоты, которая в 1901 г. переименовали в церковно-приходскую школу, а Антоний Котович был её заведующим. И это было только начало – при его содействии открывались школы грамоты одна за другой: 22 ноября 1888 г. – в деревне Панасюки (6 вёрст от храма); 18 ноября 1892 – в деревне Свищев (3 версты); в 1898 – в деревне Бабинка (4 версты). 25 октября 1899 урочище Пастушье Болото (8 вёрст) была открыта временная подвижная школа грамоты. Школы грамоты размещались в крестьянских избах. Подвижная школа размещалась в разных избах. Учителями были грамотные крестьяне.
Когда летом 1915 г. немецкие войска начали успешное масштабное наступление против российской армии. Антоний Котович вместе с матушкой Софьей Егоровной эвакуировался в город Тула, где служил в некоторых городских церквях, исполнял требы в местном военном лазарете, вёл беседы с больными и раненными воинами. С ноября 1916 г. служил в церкви Иверской иконы Божией Матери в селе Борщевое Веневского уезда Тульской губернии. Этот храм принадлежал женскому Успенско-Иверскому монастырю. Скончался Антоний Васильевич Котович 14 января 1917 г. от разрыва сердца, и похоронен у церкви Иверской иконы Божией Матери, где он служил.
Антоний Котович был женат на дочери священника Софье Георгиевне Ивацевич. Она родилась 24 сентября 1855 г., окончила Виленское женское духовное училище. Её отец учился вместе с Василием Онуфриевичем Котовичем (т.е. с отцом ее будущего мужа) в Литовской Духовной Семинарии.
У о. Антония и матушки Софии были две дочери – Любовь и Надежда.
Племянник о. Антония – Антоний Петрович Котович (1881-1938), был активным деятелем катакомбной церкви. Новомученик, в 1981 г. канонизирован ЗРПЦ».
Судьбы дочерей о. Антония пока выяснить не удалось, но белорусский историк и краевед Александр Ильин продолжает поиск. Возможно, со временем откроется и эта, пока неизвестная, страница.
Неисповедимы пути Господни. Вот таким чудесным образом нам был открыт жизненный путь одного из его достойных служителей. Надеюсь – откроется и еще.
Самое главное в жизни человека, по словам одного из современных священнослужителей, познать Бога и самого себя. Без этого человек не знает свои корни – откуда родом его душа, для чего он живет и куда идет.
Это же в полной мере можно применить и к значению для жизни человека знания о своих земных корнях, о своих предках, дедах и прадедах, об их жизненном подвиге. Без этого человек рискует превратиться в некий объект, которому легко внушить все, что угодно, которым легко манипулировать. Да не будет же этого с нами.
p.s. Когда уже был готов этот материал, в Государственном архиве Тульской области, в фонде Тульской Духовной Консистории, было найдено «Дело о предоставлении места священника в Успенско-Иверском женском монастыре священнику-беженцу Крестовоздвиженской церкви с. Омеленцы Брестского уезда Гродненской епархии Антонию Котовичу» (ГАТО. Ф. 3, оп. 10, д. 5171).
Первое, что мы можем видеть открыв это дело – это несколько прошений, написанных рукой батюшки Антония, о предоставлении ему возможности совершать богослужения в пределах Тульской епархии. Далее следует перписка с Духовной Консисторией, прошения, написанные игуменией монастыря матушкой Флавианой, а также ее извещение о смерти о. Антония. Имеется в деле и небольшая записка, написанная рукой вдовы о. Антония – матушкой Софией, о получении ею на руки послужного списка мужа.
М.В. Шуманская, зав. отд. краеведения ТОУНБ
[1] Тульские епархиальные ведомости. – 1917. – 15-22 апр. (№ 15-16), ч. неофиц. – С. 226-231.